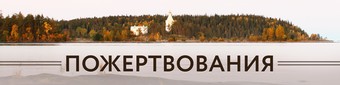Спустя много лет Василий Васильевич написал трогательное стихотворение, посвящённое родным местам и близким людям. Кроме того, в этих строчках проглянула душа строителя-созидателя; невольно убеждаешься, что свою профессию автор выбрал неслучайно:
Домик старенький на краю,
И вернусь я в него, наверное,
Даже в последнюю минуту свою.
Меня встретит берёза у дома,
Пожелтевшей листвой шелестя...
Всё желанно мне здесь, всё знакомо,
Жаль мне, мама, – не будет тебя.
Как не стало уже и деда,
Ведь четыре войны он прошёл,
А вернувшись домой с Победой,
Дома старого он не нашёл.
Но глядел он на всё с улыбкой,
С доброй лаской в морщинках глаз,
И летели года лёгкой дымкой,
Пролетают они и сейчас.
Моя родина, Русь, я вижу
В опустевших твоих деревнях
И берёзок печаль, и вишен…
И упрёк стариков в глазах.
Да, упрёки эти понятны:
Ведь же выдержав тяжесть войны,
Вы достойнее жизни достойны,
Чем сумели создать для вас мы.
***
В 1955 году вся семья из-за болезни матери, страдавшей от малярии, переехала на Урал, в город Дегтярск, окружённый со всех сторон месторождениями медной руды и серного колчедана.
Этот городок, в то время небольшой рабочий посёлок Дегтярка, известен тем, что в нём в конце двадцатых годов вместе с родителями-специалистами провёл несколько детских и юношеских лет будущий президент США Ричард Никсон. А через тридцать лет, будучи уже вице-президентом, во время «оттепели» добравшись до Урала, он неожиданно для властей попросил отвезти его в Дегтярск. Там Никсон несколько раз внезапно останавливал кортеж, выходил из машины и активно общался на улицах с местными жителями, не взирая на органы безопасности.
Меньше, чем через год, 1 мая 1960 года, именно над Дегтярском был уничтожен американский самолёт-шпион U-2. Это известный факт, но не все знают, что огнём ПВО вместе с ним по ошибке был сбит также и советский перехватчик МиГ-19. Трагедия в небе разыгралась прямо во время первомайской демонстрации и наш истребитель мог врезаться в скопление народа, если бы не героический поступок лётчика Сергея Сафронова — он сумел отвести горящий самолёт за город, спасая человеческие жизни, при этом лишившись своей.
***
Вернёмся к нашему Васе.
В 1957 году он окончил школу-семилетку в Дегтярске и поступил в Свердловский монтажный техникум.
Когда Василий жил в Свердловске, каждый год он на летние каникулы уезжал в Тверскую область к своему деду Петру в деревню Большой Бор. Всё лето жил там и работал — помогал деду, пас коней... Дед Пётр прошёл несколько войн: гражданскую, советско-финскую, Великую Отечественную и советско-японскую. Вернувшись в конце 1945 года с последней войны, он жил в этой деревне и работал конюхом.
И вот, летом после первого курса, когда Васе было четырнадцать лет, он поехал к деду Петру. Дед ждал его на станции Селижарово, но парень проспал эту станцию. Проснувшись, он сошёл с поезда уже на следующей. На платформе никого не было, и Василий пошёл пешком. Прошёл сначала двадцать километров до Селижарово, а потом ещё пятьдесят до Большого Бора.
Василий Васильевич вспоминал, что, когда он шёл в ночной темноте мимо леса, видел среди деревьев горящие волчьи глаза. Но ничего, тогда ещё совсем мальчишка, он дошёл до дома и успокоил деда. Вот такой случай был в его жизни.
***
В годы учёбы на практике Василий принимал участие в строительстве первого в областном центре широкоэкранного кинотеатра «Мир», потом трудился на стройке нового цеха Первоуральского новотрубного завода, одного из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб.
После успешного окончания техникума по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 1961 году Василий попадает в столицу — Москву, откуда начинает свою многолетнюю кочевую трудовую деятельность в коллективе «Спецжелезобетонстроя» — единственного в Советском Союзе строительно-монтажного треста по возведению специальных высотных сооружений из монолитного железобетона.
Попросту говоря, восемнадцатилетний Василий Кирсанов вместе с товарищами начинает строить огромные дымовые трубы высотой от 100 до 250 метров на крупных комбинатах и ГРЭС — районных и региональных электростанциях. Сначала рабочим-трубоукладчиком, потом монтажником на высотных сооружениях... до руководителя ещё далеко...
***
На строительство Останкинской телебашни Василий не попал, потому что в 1963 году его призвали в армию, в военно-воздушные силы. Служили тогда три года. Первый из них Василий провёл в учебной части около города Канска в Красноярском крае. Там же он совершил свой первый прыжок с парашютом.
Последующие два года Василий служил в Дальней авиации старшим воздушным стрелком-радистом на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-22. Аэродром располагался близ города Тарту в Эстонии, но маршруты учебных и дежурных полётов пролегали над странами Варшавского Договора и всей европейской частью Советского Союза до Сибири.
После демобилизации Василий вернулся в родной трест и продолжил созидательную деятельность в различных уголках СССР: Украина, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан, Эстония, Литва, Мурманск, Кронштадт, Липецк, Мценск, Череповец, Новгород, Краснодар, Ленинград, Лодейное поле, Карелия…
***
Параллельно с работой Василий в 1967 году поступил на заочное отделение Ленинградского инженерно-строительного института. Когда сдавал документы, познакомился с будущей супругой.
Из воспоминаний Елены Михайловны Кирсановой:
Пройти конкурсный отбор и поступить учиться в ЛИСИ (теперь он называется Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет) всегда было делом нелёгким.
Но Василий Кирсанов был молод, силён, уверен в себе. Поступил в вечернюю школу, взял в руки учебники и снова начал грызть гранит науки.
Сдавать документы в институт он приехал в последний день — раньше не мог вырваться — и встал рядом с белобрысой девчонкой, одновременно вместе с ним положившей документы на стол перед сотрудницей приемной комиссии. Та подняла голову и, взглянув на них, удивлённо спросила: «Вы брат и сестра?»
Не дожидаясь ответа, выдала обоим направление для проживания в общежитии института, расположенном в Старом Петергофе. Василий посмотрел на Бог весть откуда взявшуюся «сестрицу» и добродушно предложил: «Поехали в общежитие устраиваться. Давай твою сумку, помогу нести».
Общежитие Ленинградского инженерно-строительного института располагалось в красивейшем здании. Расположенный вокруг него парк изобиловал тенистыми тропинками, каменными мостиками, хранящими былую красоту царственных мест.
Знаменитый русский художник Иван Иванович Шишкин запечатлел удивительную красоту этих мест в знаменитой работе «Дубы в Старом Петергофе».
Знал ли тогда Василий Кирсанов, что эту историю с сумкой они будут много лет часто и с удовольствием вспоминать? Носить сумки невесть откуда объявившейся «сестрицы» Василию пришлось всю жизнь.
Этот эпизод может служить лучшим подтверждением справедливости древней истины, высказанной когда-то Платоном: «Заботясь о счастье другого, зачастую находишь своё собственное…»
***
До конца семидесятых Василий переезжал вместе с семьёй с одного места работы на другое. В 1972 году в городе Мценске родилась дочь Лидия, через год ещё одна дочка — Ольга. Когда подошла пора девочкам идти в школу, необходимо было остановиться. На семейном совете местом постоянного проживания был выбран родной город Елены — Петрозаводск, в самом центре которого стоял большой деревянный дом, построенный её прадедом ещё до революции.
Так совпало, что через пару лет на заседании горсовета было решено снести в этом районе старые здания под новостройки, и жителям, естественно, предоставили новые квартиры. Семье Василия Васильевича выделили трёхкомнатную квартиру в живописном районе Ключевая недалеко от Онежского озера, куда все с радостью ходили купаться.
Вообще надо сказать, что Василь-Васильевич всегда вёл здоровый образ жизни, закалялся. Он очень любил бег, кроссы, не раз принимал участие в соревнованиях, массовых забегах, двадцатикилометровых полумарафонах.
Два года ходил в клуб любителей зимнего плавания, купался в проруби, но потом признал это занятие не очень полезным для своего здоровья. У Василия Васильевича было повышенное давление, два его родных брата умерли от инфарктов в возрасте около сорока лет.
Землетрясение в Армении
В 1988 году строительное управление, в котором Василий Васильевич работал главным инженером сократили, и он на некоторое время остался без работы. В это время в Армении произошло очень разрушительное Спитакское землетрясение. Погибло несколько десятков тысяч жизней, около ста сорока тысяч человек стали инвалидами, полмиллиона остались в начале зимы без крова.
В этой беде пострадавшим помогал весь мир, кто чем мог. Для ликвидации последствий и восстановительных работ по всей стране на предприятиях организовывались рабочие отряды, которые незамедлительно отправлялись в Армению. Был составлен такой отряд и в Карелии. Руководителем его назначили Василь-Васильевича, поскольку он обладал к тому времени огромным опытом работ с различным контингентом, в том числе и в союзных республиках.
Василий Васильевич вспоминал:
— Наш карельский отряд через Москву добирался. Человек двадцать пять нас было. Мы собирались сразу после приезда начать работать, поэтому везли с собой инструмент и необходимое питание на десять-двадцать дней, не помню уже… Но вот что интересно. Мы прибыли в Москву из Петрозаводска поездом. Нам: «Вы куда?» — «В Армению». На следующий день нам всё бесплатно приносят, говорят: «Мы тем, кто в Армению едет, всё бесплатно делаем».
Сели мы на поезд «Москва – Ереван». Смотрим на табло: туда поезда уходят по расписанию, а оттуда не приходят... Ведь положено каждый день приходить и уходить, а они там задерживаются на несколько суток. Нет их. И отсюда посылают уже не фирменные ереванские поезда, а сборные из разных вагонов. Вот и мы на таком сборном поезде поехали.
Пока ехали мимо Спитака, смотрели, как всё разрушено. Спитак маленький городок, дома все глинобитные. Ни одного серьёзного здания я не видел там, даже двух-трёхэтажных не видел. Ну, развалины, конечно, одни развалины... И когда проезжали по горам, смотришь, — через гору идёт трещина. От Спитака и насколько видно, — прям трещина в горе! Такая широкая, по крайней мере, не один метр, а много метров! Вот такие картины я видел... Очень меня поразило, что такое землетрясение было, — горы трещали!
Приехали в Ленинакан, на вокзале сели. Вокруг темно, света нет. Только тусклая лампочка на вокзале. Я пошёл узнать, как нам быть: никто не встречает, телефонов нет, транспорта нет, трамваев нет… Только люди вокруг ходят.
И вдруг что-то загрохотало, все побежали, а мы стоим посередине вокзала. Куда нам бежать, у нас вон сколько вещей… Когда всё стихло — люди стали обратно возвращаться. Они думали, что опять землетрясение началось, а оказалось — многоэтажный дом рядом обрушился.
Мы зимой приехали, сразу после Нового года. Ночью до минус 27-ми, а днём намного теплее. Когда на место приехали и палатку разбили, осмотрелись — рядом стоит палатка с надписью «Курск», за ней «Архангельск»... Было так: рабочие трудились по два месяца, потом сменялись. А мне пришлось около года быть бессменно. Иногда потряхивало. Я думаю, десяток толчков мы точно пережили. Причём как-то так… привыкли, одним словом.
Восстанавливали из руин город Ленинакан, его тогда почти с землёй сравняло, очень много было разрушено. Наш отряд построил бетонно-растворный завод, столовую, первый детский сад...
А когда вернулись, организацию нашу расформировали, и я опять остался без работы…
***
От имени Коллегии Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР Кирсанову В.В. была объявлена благодарность за самоотверженную работу в составе объединения "Росгражданстрой" и выполнение интернационального долга по восстановлению г. Ленинакана Армянской ССР, пострадавшего от землетрясения.
О валаамском периоде жизни
Василия Васильевича Кирсанова
мы расскажем в следующий раз.

Неусыпаемая Псалтирь – особый род молитвы. Неусыпаемой она называется так потому, что чтение происходит круглосуточно, без перерывов. Так молятся только в монастырях.
Видео 591905